Так говорит актёр Артур Крускопс, который 19 лет работал в Латвийском Национальном театре, а с 2023 года «парит» уже на сцене театра «Дайлес». Чтобы это не прозвучало слишком мистически, стоит уточнить: Артурc имеет в виду те спектакли, которые, говоря на профессиональном актёрском языке, не требуют «поднажать» — когда происходящее на сцене развивается само собой. Обладатель самых престижных наград в латвийском театральном мире признаётся: в достижении целей ему помогает труд, умение сделать больше, чем ты можешь, и стремление каждый раз удивлять самого себя. А на вопрос о самой соблазнительной и вызывающей роли актёр отвечает необычайно честно и по-земному: «Для меня это не так важно. Важно общее удовлетворение от спектакля — чтобы он был хорош сам по себе, а не выделялся кто-то один».
Что помогает тебе достигать целей?
Работа. Мне кажется, это либо в крови, либо нет. Делать больше, чем можешь, и каждый раз удивлять самого себя. Но у меня нет готовых ответов, как к этому прийти. И я таким не родился.
Молодым актёрам я всегда говорю: я не начинал в театре с главных ролей — бывал и в третьем ряду. И только со временем понял: нужно пробиваться вперёд.
А потом повторяю то, что когда-то сказал мне режиссёр Валтерс Силис: «Актёру, каким бы он мне ни казался талантливым, я никогда не дам главную роль в самом начале карьеры. Сначала — роли второго или третьего плана».
Потому что он этого ещё не заслужил?
Потому что сначала нужно увидеть, как он справится с маленькой ролью, чтобы в следующий раз доверить ему что-то большее. Иногда актёры начинают жаловаться, что их не ценят, не понимают, и начинают халтурить на сцене — мол, не главная же роль, зачем выкладываться. Но всё же видно со стороны, и, скорее всего, в следующий раз его просто не возьмут в команду. А мне нравится выкладываться по полной и во второстепенных ролях, потому что я понимаю: командная работа всегда очень важна.
Иногда меня спрашивают, какую роль я хотел бы сыграть. Для меня это не так важно. Важно, чтобы был общий результат — чтобы спектакль получился хорошим, а не просто выделялся кто-то один.

Говоря о сложной работе актёров на сцене: что остаётся «за кадром» — то, о чём люди не спрашивают просто потому, что даже не догадываются? Наверное, речь не о том, чтобы выучить весь текст наизусть, правда?
Это вопрос, суть которого до конца никто вне театра не поймёт. Текст? Простите, но любой идиот, если каждый день будет читать одно и то же стихотворение на пяти страницах или одну и ту же главу из учебника истории два месяца подряд — тоже выучит наизусть.
Следующий уровень — то, почему люди ходят на коучинги: как себя подать, как говорить? Людям вообще сложно говорить, а нам нужно не просто озвучить текст на публике — нам надо сыграть, чтобы у зрителя в зале был эффект: «Вау!»
Самое сложное, наверное, — это понять ход мыслей персонажа, которого ты играешь. И не просто самому понять, а передать это залу, чтобы зрители смеялись, плакали и проживали всё вместе с тобой.
То, с чего мы всегда начинаем перед постановкой — это попытка понять, о чём текст, что мы хотим им сказать. А потом уже думаем, как это воплотить. И вот это «воплотить» — самое трудное.
«Ромео и Джульетту», «Гамлета» Шекспира ставили миллионы раз, но каждый режиссёр, берясь за эти пьесы, хочет сказать что-то своё, удивить тем, как он их прочёл, как он это видит. Наверное, это и есть самое интересное.
После спектаклей люди иногда говорят: «Ну, это не Шекспир…» Потому что очень многие хотят увидеть то, что они прочитали. У меня в таких случаях возникает внутренний протест — зачем ты приходишь в театр, если хочешь увидеть то, что уже сам себе в голове «нарисовал»? Позволь режиссёру показать свою версию. Позволь этому произведению прозвучать по-другому.
Мне пришла в голову параллель с современным искусством. Говорят, его невозможно понять без контекста. А в театре, возможно, наоборот — зрителю стоит стать «чистым листом», просто доверившись тому, что режиссёр с помощью актёров хочет показать на сцене?
Человек должен приходить в театр открытым ко всему. Нельзя сказать, что это плохо, если у него уже есть определённый багаж знаний. Меня время от времени спрашивают: нужно ли читать произведение перед спектаклем? Иногда — нужно, иногда — нет.

А когда — не нужно?
Когда это относительно классическая постановка, без режиссёрских интерпретаций. Есть режиссёры, которые ставят пьесы достаточно традиционно — как написано, так и делают. Тогда мы выходим, проживаем всё красиво и на сцене проигрываем весь драматургический материал.
Но бывает иначе. Например, у нас была постановка голландской режиссёрки Олы Мафаалани — спектакль «Веди свой плуг по костям мёртвых» по книге лауреатки Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук. В этом случае не будет лишним перед спектаклем прочесть книгу — потому что сама постановка совсем другая. И, возможно, после чтения будет легче понять происходящее.
Говоря о вхождении в роль и выходе из нее — бывали ли роли, в которых тебе было настолько комфортно, что не хотелось из них выходить, хотелось задержаться в этом состоянии?
Мне очень нравятся слова Гиртса Яковлева: «Все что-то говорят про выход из роли, а я до сих пор не понял, как в неё войти».
Конечно, в этих словах есть доля юмора, но у многих актёров после тяжёлых ролей действительно возникают сложности с возвращением к здравому смыслу — и у меня такое бывало. Иногда помогает бокал-другой вина, но потом понимаешь — это не решение. Чаще всего после спектакля, просто медленно переодеваешься, сидишь, дышишь — и вот так постепенно выходишь из роли.
Но это не значит, что после спектакля роль «тянется» за тобой. Она неотлучно рядом в другой момент – за неделю до премьеры. Когда ты живёшь в режиме репетиций — с десяти утра до десяти вечера, и всё время чувствуешь неуверенность. Вот так – действительно хорошо? Или ещё надо что-то «докручивать»?
Как устроен процесс мышления у актёра во время спектакля? Ты наблюдаешь за собой как бы со стороны, вспоминаешь, где стоял на сцене, что говорил?
Систем существует много. Умные люди разработали разные техники — начиная со Станиславского и Михаила Чехова. Кто-то считает, что нужно полностью проживать роль, входить в неё до конца. Кто-то — что нужно примерно на 20% наблюдать за собой со стороны, чтобы у тебя не «сорвало крышу», чтобы ты мог контролировать себя всё время.
Я думаю, у каждого актёра со временем вырабатывается свой собственный метод, как себя регулировать. Это очень индивидуально, и этому не научат ни в одной школе. Это приходит с реальной практикой, когда ты сам понимаешь, как всё работает именно у тебя. Мне нравятся те моменты на сцене, когда я улетаю.
Как это проявляется?
Это те моменты, когда ты чувствуешь, что тебе ничего не нужно делать «сверх» — всё просто происходит само собой. Это очень трудно объяснить словами.
Я очень чётко чувствую, когда спектакль идёт хорошо или очень хорошо, а когда — плохо. И в последнем случае ты в каких-то местах начинаешь подталкивать, «дожимать». Причем это командная работа. Иногда партнёр может выйти на сцену приболевшим, ему нехорошо, и пьеса не идёт. Тогда ты чувствуешь: нужно чуть-чуть поднажать, чтобы действие пошло вперед, «покатилось», а не провисало.
А бывают моменты, когда ты просто «шпаришь вперед», играешь — и всё происходит. Не знаю, как это точнее объяснить… Очень специфическое ощущение.
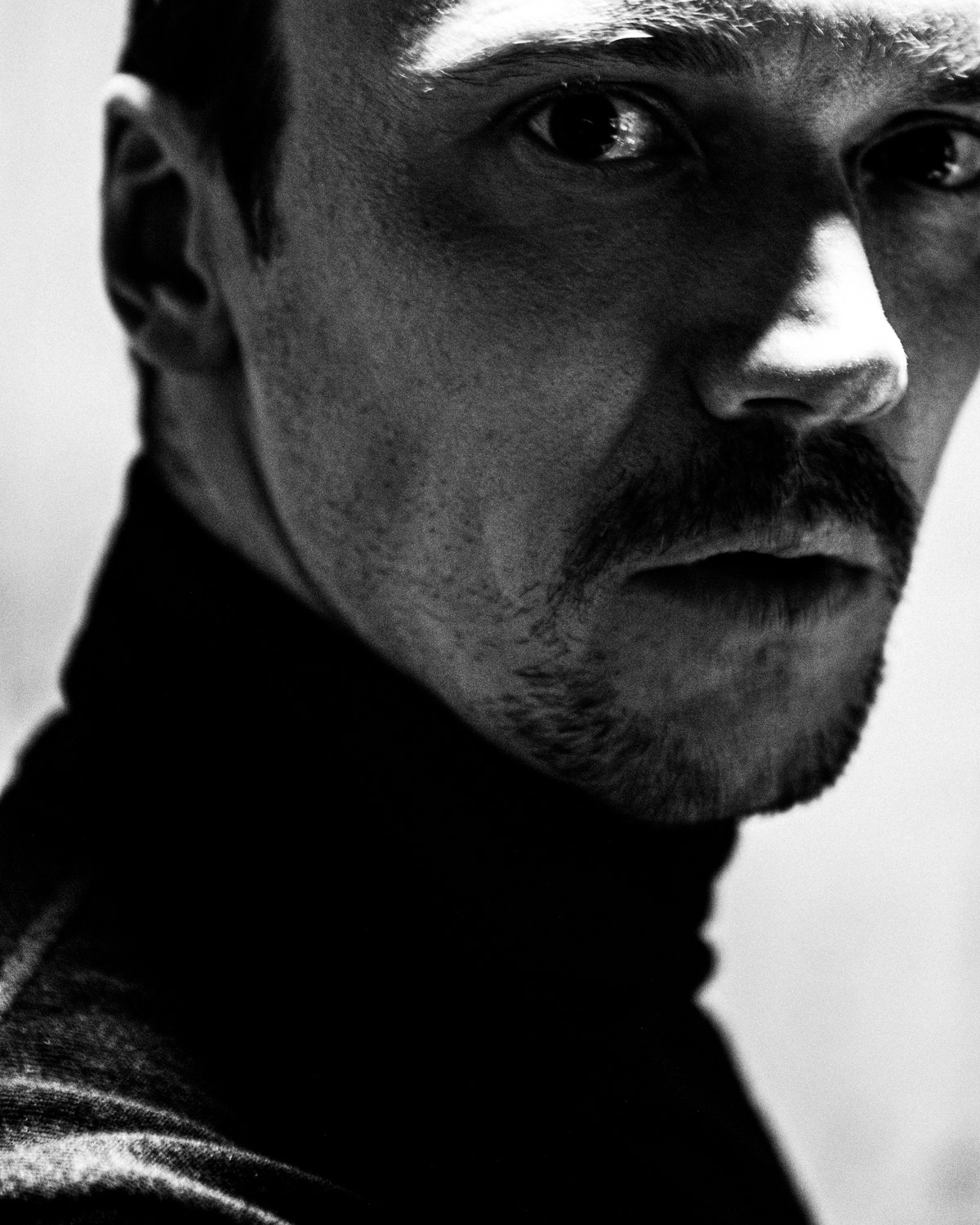
Это чувствуется по реакции зала?
Знаешь, прозвучит странно, но — да.
Но как?
Это очень сложно объяснить.
В зале же, по сути, тишина… Ну, может, кто-то пошуршит, покашляет…
Можно почувствовать энергию. Звучит так, будто у меня «поехала крыша», но это действительно ощущается — что публика абсолютно подключилась. Либо мы на одной волне, либо нет. И это фантастическое чувство. Такое возможно только в театре.
Сегодня все говорят об искусственном интеллекте, о кино — но с помощью ИИ нельзя воссоздать вот это. Потому что в кино подключение — одностороннее. А в театре — двустороннее. Это уже почти как секс, понимаешь? А кино — это просто наблюдение.
А тебя, как актёра, не раздражают кашляющие зрители или те, кто шуршит фантиками?
Не знаю. Очень часто это происходит со зрителями пожилого возраста. Может, им кажется, что этого не слышно — мне сложно это объяснить.
Есть такая шутка: почему все кашляющие люди считают, что единственное место, где можно нормально откашляться — это театр? Но по-человечески все очень понятно — зритель купил билет, потом заболел, а выбрасывать билет за сорок евро жалко. Вот он и идёт в театр с кашлем.
Есть люди, которым нравится ходить на генеральные прогоны — потому что там нет публики, которая любит «покрасоваться», да и актёры играют немного иначе…
Генеральная репетиция — это нечто особенное, ведь это первое столкновение с живыми зрителями. Мы два месяца над чем-то работали — и вот наступает вечер, когда мы впервые получаем обратную связь и начинаем понимать, что, например, какое-то место в спектакле «не работает». Это первая реакция на то, что мы строили всё это время.
И все-таки генеральную репетицию ещё нельзя считать полноценным спектаклем. Например, на премьере спектакля «Ночь Спидолы», поставленного Виестурсом Кайришсом, на сцене было лишь 70% от того, что мы показывали на генеральной репетиции. Обнаружилось много моментов, которые нужно было кардинально менять. Но так и должно быть! Зритель приходит на генеральный прогон бесплатно или за символическую плату — и по сути видит черновик. А у нас потом остаются ещё 24 часа, и за это время можно изменить очень многое.
Что оказывается лишним?
Иногда — какие-то сюжетные моменты, сцены… Вдруг становится ясно, что без них спектакль вполне может обойтись.
И не жалко их вырезать? Ведь актёры же всё это репетировали, старались, переживали…
Очень жалко. В «Ночи Спидолы» у моей жены, которая играла Спидолу, вырезали три большие сцены. И она сказала: «Да, жалко, но для спектакля так будет лучше». В таких случаях своё эго приходится немного отодвинуть в сторону.
Когда с Валтерсом Силисом мы ставили «Вкус свинца», генеральная репетиция длилась почти шесть часов. И тогдашний директор Национального театра Оярс Рубенис сказал: «Парни, ну сделайте что-нибудь!» Мы сели за стол и начали не просто чуть-чуть сокращать, а буквально «резать ножом». В итоге пьеса стала длиться три часа сорок минут — всё ещё долго. Тогда мы ещё час выкинули. Некоторые актёры в результате остались без ролей. Такое бывает.
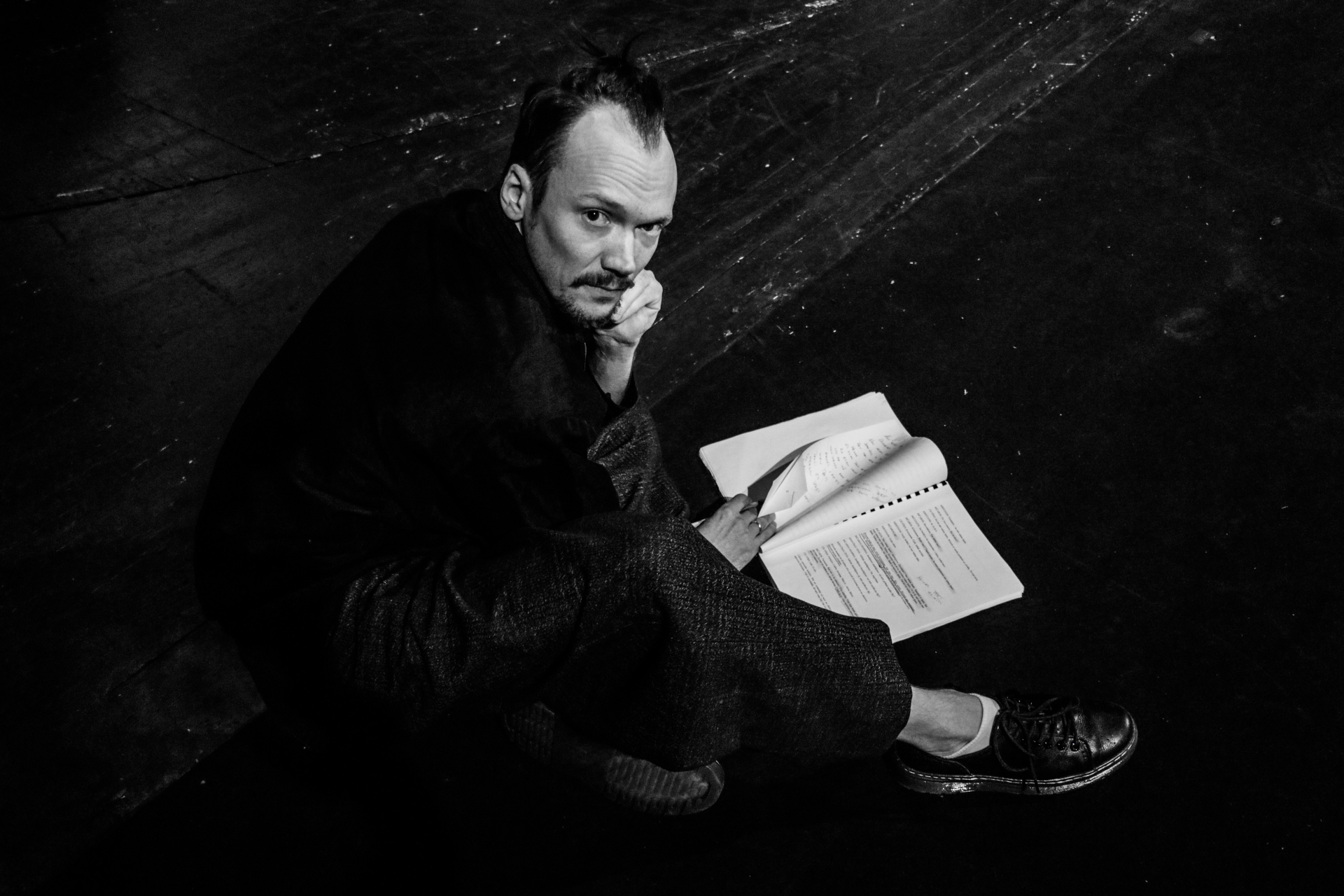
Жёстко, но жизнь ведь на этом не заканчивается…
Абсолютно нет. Это тоже часть специфики нашей работы. Очень мало режиссёров, которые сразу могут точно и чётко описать, каким будет спектакль. Но они есть. Кирилл Серебренников, например, уже на первой репетиции мог рассказать, что будет происходить в каждой сцене и что будет делать каждый актёр. А потом добавлял:«Я вам рассказал, что вы будете делать — теперь ваша задача придумать, как вы это будете делать. Играешь собаку — придумай, какая это будет собака».
Помню интервью, в котором ты рассказывал о жизни в квартире на улице Авоту. Там ты упомянул крысу, с которой так и не справился. Если бы тебе пришлось говорить от имени той крысы — каким тогда был Артурс Крускопс?
Тогда я был абсолютным психопатом в профессии. Но именно тот Артурс воспитал во мне Артурса, который с тобой говорит в данный момент. Сейчас я умею понимать вещи, а не просто чувствовать и проявлять эмоциии. Когда заканчиваешь актёрскую школу, в голове ещё очень мало разума. Ты всё пытаешься воспринимать через ощущения, интуицию — и порой это выливается в откровенное безумие.
На репетициях я мог по-настоящему злиться на актрис. Например, была сцена, в которой партнёрша должна была сказать мне: «Я тебя люблю». А я говорил ей: «Я тебе не верю. И мы не двинемся дальше, пока ты не скажешь так, чтобы я поверил». Она действительно это произносила так, что было видно — внутри ничего не происходит. И я шёл до конца, доводил её до состояния полного изнеможения, пока не начинал верить её словам. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю — это был идиотизм, эмоциональная жестокость. Но мне кажется, что театр сам по себе — некая форма эмоционального насилия. Что мы делаем на сцене? Мы себя разрываем, унижаем друг друга, при этом понимая: это — театр.
Иногда, особенно во время репетиций, ты воспринимаешь происходящее слишком лично. Но слова режиссёра нельзя воспринимать как личное оскорбление. Это работа. Он не обижает тебя как человека — он пытается «вытянуть тебя в роль».
Но иногда грань стирается… и можно перепутать всё начисто.
Как актёр воспринимает критику? Мне кажется, нет такого человека, которому было бы легко услышать критические высказывания со стороны…
Критика присутствует в любой профессии — просто в нашей она звучит публично.
Я рад, что в начале своей актёрской карьеры мне посчастливилось расти и развиваться рядом с Нормундсом Науманисом и Силвией Радзобе, которые до сих пор остаются двумя эталонами театральной критики — при том, что между собой они постоянно спорили до остервенения. Это было безумно захватывающе — читать, как они в своих рецензиях буквально метали друг в друга ножи. Тексты Нормундса всегда были абсолютно гениальны и невероятно интеллигентны.
Сегодняшние рецензии стали, конечно, более поверхностными.
Возможно, они стали более идеологически «заряженными»?
Может быть. А может, дело просто в нехватке времени. Ты посмотрел спектакль — и уже с утра должен сдать текст. На мой взгляд, чтобы написать действительно хорошую рецензию, спектакль нужно посмотреть как минимум дважды. Часто критики присутствуют именно на премьере, а премьера — это очень хрупкий момент: все невероятно напряжены. Настоящее «вживание» в спектакль происходит только к третьему показу, именно тогда он начинает по-настоящему звучать — и вот это критику стоит увидеть.
Больше всего меня раздражает, когда в рецензии проскальзывает личное неприятие. На мой взгляд, профессионалы вообще не должны с такой позиции говорить о произведении искусства. Это ты дома можешь сказать жене: «Мне не понравилось». А мне-то что с того, понравилось тебе или нет? Меня интересует, хороший ли это спектакль.
Иногда бывает, что критик просто не увидел того, что хотел увидеть. Или ему не нравится тема спектакля. И он пишет: «На кой нам, простите, нужна пьеса про каких-то там тридцатилетних и их проблемы с отношениями или насилием?» Ну да, если тебе 60, ты в браке, и в семье у тебя всё в порядке — тебе это может казаться ерундой. Но нельзя просто остановиться на «мне не нравится».
Есть актёры, которые вообще не читают рецензии. И действительно — зачем? Что, начнешь лучше играть, чтобы понравиться критику? Нет, конечно. Ты просто продолжишь делать свою работу.
Что для тебя означает успех и как ты его ощущаешь?
Успех — важен. Важно, чтобы иногда кто-то похлопал тебя по плечу. Чтобы у тебя была энергия, потому что в какой-то момент батарейка может сесть. Меня как-то спросили, важно ли для меня получать награды. Для меня было очень важно получить первую. Но работаю я не ради призов. Хотя они дают некий толчок, подтверждение, что ты что-то делаешь хорошо.
Недавно я гулял в парке с собакой, и одна женщина спросила: «Вы ведь актёр, правда?» Я смутился, потому что я ужасно стеснительный, но сказал: «Да». А она вдруг говорит: «Спасибо за то, что вы делаете». И я начал улыбаться. Казалось бы, пустяк, но часто именно это помогает – просто услышать спасибо от человека, которому оказалось нужно то, что ты делаешь. Мы, к сожалению, очень редко говорим такие вещи.
Ты стараешься нравиться?
Тут легко угодить в свою собственную ловушку. Начинаешь думать: «А не получу ли я за эту роль какую-нибудь награду?» Но первична-то радость от работы.
Мы не должны «обслуживать» зрителя, но, как сказал мне один режиссёр, всегда стоит немного подумать о том, чтобы тебя понял и профессор университета, и дворник. Каждый из них поймёт что-то своё, но понять должны оба.
Когда актёр начинает репетировать роль, он одет в свою повседневную одежду, а уже потом надевает сценический костюм. Меняет ли это что-то в твоём сознании?
Мы видим эскизы костюмов уже в начале репетиций. И, если, например, мне предстоит играть в пиджаке и брюках, я стараюсь подбирать что-то похожее для репетиций. Если это будут спортивные штаны и кеды, надеваю нечто подобное.
Сценический костюм — то, что быстрее всего «включает» тебя в роль. И особенно это касается обуви. Надевая ту обувь, в которой предстоит играть, я сразу понимаю: «Да, вот теперь всё будет именно так».
Тебе приходилось носить украшения на сцене?
Иногда это тоже часть костюма. Украшения сразу меняют всё, потому что с ними можно играть. Если, скажем, у твоего персонажа есть кольцо, ты его крутишь, и это добавляет роли какую-то новую характерную черту, краску.
Есть ли у тебя какое-то фамильное украшение?
Нет, только обручальное кольцо. Был момент, когда я хотел цепочку. Но потом понял, что её каждый вечер придётся снимать, а утром надевать, и в какой-то момент я об этом забуду… В молодости хотел носить серёжку. Но опять же — снимать каждый вечер, надевать по утрам?.. Так что сейчас у меня только кольцо и часы.
Поскольку ты живёшь недалеко от Большого кладбища, ты, наверное, ходишь в театр «Дайлес» по улице Миера?
Да.
На мой взгляд, одна из самых уютных улиц Риги.
Абсолютно согласен.
Эта архитектура, липы, которые летом так пахнут…
Там в любое время года очень красиво. У нас есть собака, с которой я каждый день хожу в театр. Мы проходим через кладбище, потом идем мимо Еврейской средней школы, потом заходим в «Kalve» за кофе — и дальше до театра.
А что делает собака в театре?
Остаётся в гримёрке и ждёт меня.
Она там ведёт себя прилично?
Сначала погрызла стену, пару туфелек, но теперь всё хорошо. Я с самого детства Доры приучал её ходить со мной в театр. И она даже знает, когда я заканчиваю работать. В спектакле «Мастер и Маргарита» мне нужно переодеваться в другой костюм. И когда я возвращаюсь в гримерку во втором костюме, она понимает, что спектакль закончился, и пора домой. Вот такой у нас «театральный» пёс.



